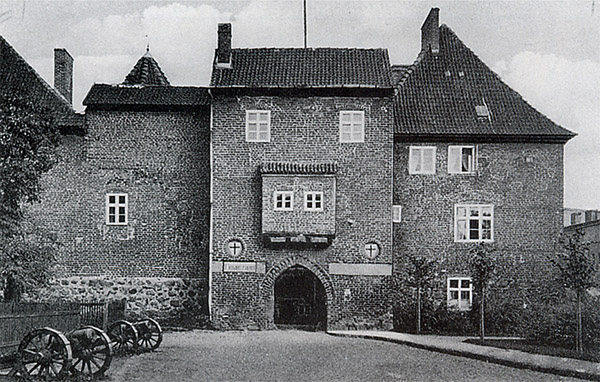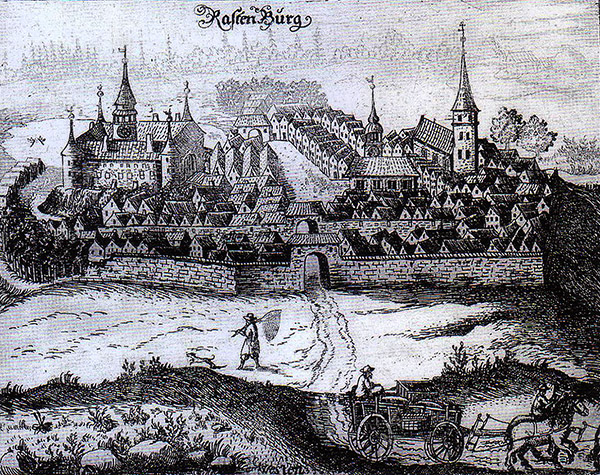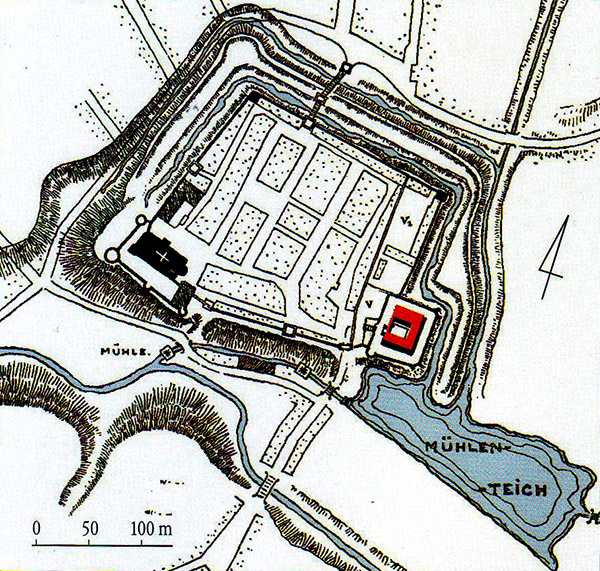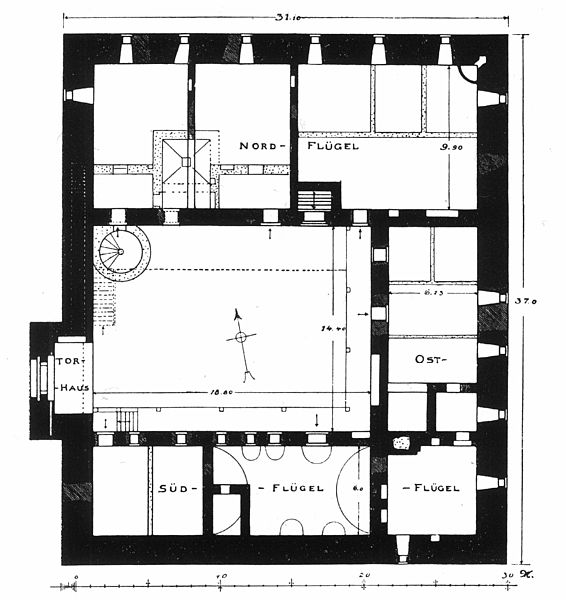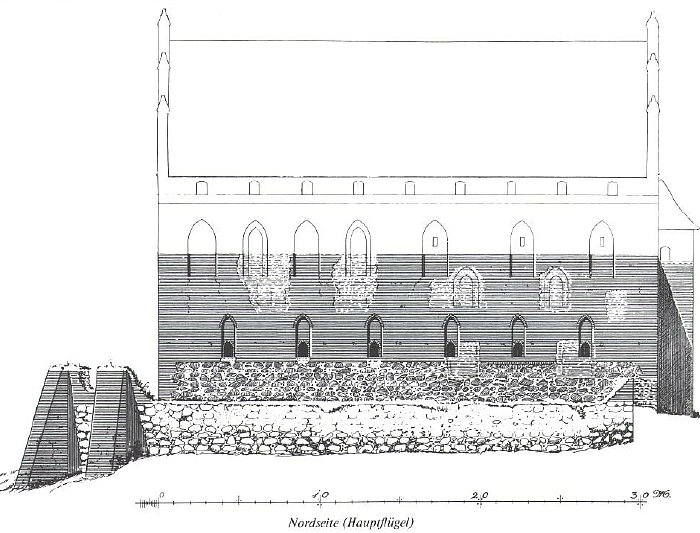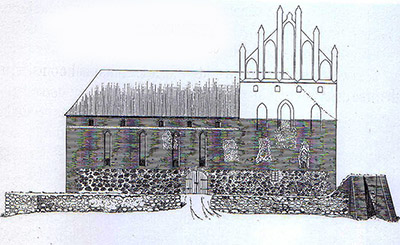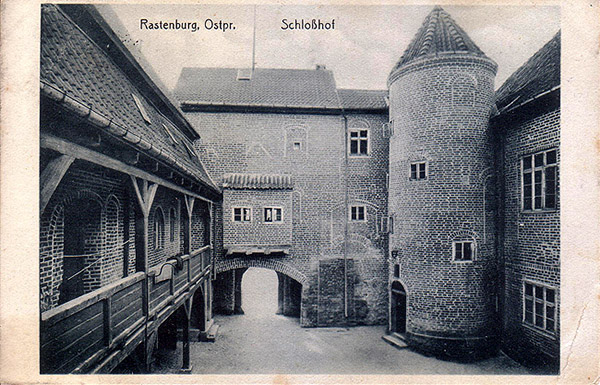Зигфрид Ленц
Купание во Вщинске
(перевод Андрея Левченкова)
Этот случай, довольно странный, произошёл с моими родственниками в тихом торговом местечке пониже реки Нарев под названием Вщинск, что могло бы сломать в нашей местности некоторым язык, однако по-польски это название звучит невероятно мелодично. Сюда, во Вщинск, что на реке Нарев, вскоре после Троицы прибыла с Мазур небольшая группа путешественников, проделавшие этот путь от границы почти без остановок. Итак, она заехала в затихшую после тяжёлого трудового дня деревню и остановилась перед постоялым двором под названием «Тиха вода», что могло означать в данном случае как спокойную, так и глубокую воду – омут. Тихая или глубокая – неважно, но как только повозка остановилась, из неё тут же выскочили два моих кузена Урмонайты: хорошо сложённые, босоногие мужчины, обоим чуть за сорок, приятно пахнущие, с новой стрижкой, и у каждого в руке по крепкой можжевеловой трости. Они поспешили, каждый со своей стороны, к козлам, и в подобострастной спешке стали помогать спуститься вознице.
На облучке возвышалась, грузная и пожилая, завёрнутая в черный платок короткая круглая фигура – тётя Арафа, с её большим подрагивающим лицом, мясистыми капитанскими руками и плавно изогнутыми плечами. В то время как племянники пытались стащить тётю Арафу с облучка, она, разок возмущённо щёлкнув кнутом, надула губы и сказала голосом, напоминающим звук испорченных кузнечных мехов: «Мы, осанна, приехали. Сейчас я приму ванну, потом мы будем есть, а когда мы поедим, то можем ехать и дальше».
Она без помощи кузенов слезла с кучерского облучка, привязала поводья и зашла в старый, вросший в землю постоялый дом, покосившиеся и обветшавшие стены которого уже давным-давно почернели от времени. Кузены смиренно последовали за ней.
Тётя Арафа, как уже было сказано, подойдя к покосившемуся трактиру, толкнула дверь и громко позвала хозяина. Вскоре появился застенчивый, маленький человечек с веками без ресниц, неловко поклонившись, с некоторым потрясением посмотрел на тетю Арафу и поинтересовался, чего она желает.
«Ванну, так сказать», – сказала она, — «а после ванны мне и моим племянникам хотелось бы поесть. Мы», – угрожающим тоном добавила она, — «достаточно долго были в пути».
«Всё», – сказал хозяин гостиницы, «будет улажено к вашему полнейшему удовлетворению. Что же касается ванной, то я попрошу вас следовать за мной.» Он пошёл вперед через закопчённый зал, в сопровождении тётушки Арафы и следовавших за ней, как на буксирном канате, кузенов, пересёк конюшню и остановился в сарае, насквозь продуваемом сквозняками. Сарай этот, оказывается, и был баней, ибо на утрамбованном глиняном полу, возле небольшого очага, стоял огромный коричневый деревянный чан, более чем наполовину наполненный горячей водой, а над огнём, покачиваясь на железном крюке, висел большой котёл, который был только что наполнен водой горничной с томными тёмными глазами.
Однако, этот один-единственный деревянный чан не был пуст; в нём сидел, наслаждаясь помывкой, некий старичок, который, при виде вошедшей компании, добродушно и глуповато ухмыльнулся, но продолжал плескаться и широко улыбаться, хотя при этом его один-единственный зуб, так сказать, отшельник в его рту, являлся свету. Тётушка Арафа, с недоверием осмотрев моющегося старика, произнесла: «Мне кажется, холера, как будто ванна все ещё занята». «Это, – ответил потерявший ресницы хозяин, — не есть причина для беспокойства. Станислав Скррбик, брат моей жены, сидит здесь в чане уже целый день. Как видите, он стар, и к тому же у него простуда. Можете быть покойны, что он не будет шокирован, если вы также окунётесь в чан, как и во многих других случаях он не серчал по этому поводу».
«Возможно, это и так», — мрачно сказала тётя Арафа. — «Но, вероятно, я нахожу это предосудительным, и поэтому суть дела представляется уже в другом свете. У нас в ходу другие привычки. Так что идите и скажите этому Станиславу Скррбику, чтобы он уступил ванну другим людям. Если он сидит в ней уже целый день, то, наверное, он сможет постоять полчаса и посуху. Что вы об этом думаете, Богдан и Франц?»
«Ты, тётушка, абсолютно права», – подтвердили кузены. Трактирщик озабоченно покачал головой, его взгляд задумчиво задержался на плещущемся старике, который зачерпнув в ладошку воды, поднёс её к краю чана и вылил её себе на лысину, и всё это сопровождалось тоненьким блеющим смехом и приглушёнными, безумными звуками экстаза.
«Нет», — сказал трактирщик, – «желание уговорить Станислава Скррбика добровольно покинуть баню, даже на определённый срок, никак не может быть исполнено. Для этого он слишком любит свой чан с водой. Он будет вести себя так, а я его знаю, как будто ваше требование его не касается».
«Другими словами, — сказала тётя Арафа, – моё право на ванну игнорируется».
«Никто ничего подобного не говорил», – возразил трактирщик.
«Может, никто так и не говорил», – возмутилась тетя Арафа, – «но мне постоянно дают это понять. В противном случае, объясните мне, будьте любезны, как я могу добиться справедливости в этом доме?»
«Для того», – заверил трактирщик, – «чтобы вы смогли принять ванну, не так уж многого и нужно, надо всего лишь поговорить в сторонке с одним из сопровождающих вас господином.»
«Богдан», – тут же крикнула тетя Арафа, и человек, отозвавшийся на это имя, вышел из дальней части сарая, положил свою можжевеловую палку на утоптанный глиняный пол и встал наготове. «Ты поможешь этому человеку, Богдан.»
Богдан кивнул, и трактирщик незаметно махнул ему рукой, а затем они вместе подошли к купающемуся старику, который, балуясь, смешно обливал себя струями воды.
«Мы его», – сказал трактирщик, – «так как других вариантов просто нет, просто выльем вместе с чаном во дворе. Вечерний воздух сегодня тёплый, так что он никак не пострадает. Для безопасности, на всякий случай, я накину на него попону. Итак, раз-два, взялись!»
Они вынесли деревянный чан с моющимся стариком во двор, подтащили его, пока старик весело махал рукой, к сточной канаве, и по команде одновременно опрокинули чан, после чего из него полностью вытекла вся вода.
«Пойдемте», – сказал трактирщик Богдану, – «обо всем остальном я позабочусь», – и он потащил выделенного ему помощника через двор обратно в сарай, где с торжествующим лицом поставил деревянный чан перед тётей Арафой.
«Можете быть уверены, что это не займёт много времени. Ядвига Трчк, моя горничная, обо всем позаботится, чтобы вы остались довольны». Сказав эти слова, он указал на томные тёмные глаза, которые одобрительно улыбнулись в ответ. Не успел он покинуть баню, как Ядвига Трчк наполнила чан водой, кузены вышли из сарая, и тетя Арафа залезла в бочку.
«Теперь», – сказал безресничный трактирщик Богдану, оказавшему ему помощь, «всё устроено ко всеобщему удовольствию. У благородной дамы, как обычно, имеется собственная ванна. Но я должен поблагодарить вас, сударь, за вашу профессиональную помощь. Вы, наверняка разбираетесь, как опрокинуть чан с назойливым человеком.» «Это лишь», – польщённо сказал Богдан, – «практика и ничего более. Честное слово».
Зигфрид Ленц «Фузилёр из Кулкакена»
Зигфрид Ленц «Это был дядюшка Маноа»
Зигфрид Ленц «Чорт чтения»
Зигфрид Ленц «Пасхальный стол»